Евангелие от Виктюка или Когда боги смеются
Анна Липковская (канд. мистецтвознавства, доцент)
Е В А Н Г Е Л И Е О Т В И К Т Ю К А
или
К О Г Д А Б О Г И С М Е Ю Т С Я
Меланхолический реквием в 2-х частях
для тех, кто видел и любит
Аде Николаевне Роговцевой –
Первой Актрисе Его Театра
Роман Виктюк – неизмеримо лучший режиссер, нежели мы – критики.
Его театр требует иного, чем наш, инструментария. Пытаться зафиксировать и отразить его спектакли – затея не только безнадежная, но и абсолютно бесполезная. Можно, конечно, попробовать отгородиться от этого тотального театра рамками привычными, начав раскладывать все «по полочкам» /о вечный идеал вконец зарационализировавшей себя «благопристойной» критики!/. И обречь себя тем самым на участь бедного Левия Матвея, записывавшего на своих табличках старательно, но – всё невпопад, всё не то…
Каков театр, таковыми, вероятно, должно быть и нашим писаниям о нем. По стилю, естественно.
О театре Виктюка надо бы писать насыщенно и прозрачно одновременно. Немного претенциозно /или просто возвышенно? – Зачем мы столь панически боимся высоких слов? Так ведь и жизнь пройдет!/. По возможности – изящно. Но и витиевато. Писать так, чтобы не была заметна грань между серьёзом – и легким понтом, внутренним ёрничаньем, иронией по отношению к себе, ситуации и доверчивым окружающим, принимающим всё изреченное тобой за чистую монету.
Не договаривать, оставляя воздух и простор, больше, чем обычно, веря интуиции и меньше – словам.
И помнить: в любом случае получится – о себе.
Попробуем?
ж ж ж ж ж
Он – режиссер с мировым именем. И мирового класса.
Актеры его обожают.
Высказывания же о Виктюке авторитетной /хотя – кто сказал?../ столичной критики, как правило, сводятся к определению степени претенциозности красоты в его спектаклях и стремлению побыстрее «застолбить» благонадежность собственных сексуальных ориентаций, но, вместе с тем, и расписаться в лояльности к проблемам, едва ли не впервые вынесенным на выхолощенную до идиотизма отечественную сцену. /Подозреваю в этом лишь способ самозащиты от чего-то пугающе завораживающего и властного./ И – не более.
Московский «критический бомонд» Романа Григорьевича не жалует. Роман Григорьевич отвечает на это с присущим ему озорством и изяществом.
Действие неизменно равно противодействию. Коса то и дело находит на камень: Роман Григорьевич не упускает, кажется, ни одного упрека в свой адрес, бумерангом «возвращая» его со сцены в размере едва ли не десятикратном.
Критика – о Романе Григорьевиче: «Оно-то да, но зачем же?..»
Роман Григорьевич в ответ: «А так – не желаете? А вот этак?»
Критика ему: «Фи! – Безвкусица! Пошлость!»
А он ей: «Па-а-алучите!»
Такое себе перетягивание каната. И уже, похоже, слишком заигрались. /Впрочем, может быть, этот поединок – лишь видимость: цену себе Виктюк знает, и что ему до мелких дрязг и суеты вокруг?/.
То ли дело в Киеве: здесь исчезает груз навязанного Виктюку амплуа вечного провинциального мальчика, которого в любой момент могут снисходительно похлопать по плечу априорно умудренные столичные мужи и дамы.
Здесь предлагаемые обстоятельства иные: не нужно находиться в состоянии хронического кому-то-чего-то-доказывания.
И именно здесь – насколько позволяет судить опыт собственных впечатлений, далеко не исчерпывающих предмет, – лучшие спектакли Романа Виктюка.
«Священные чудовища» и «Дама без камелий».
ж ж ж ж ж
Самое удивительное то, что Виктюк физически не мог поставить этих спектаклей: слишком мало было времени в его редкие «ураганные» наезды.
Откуда же тогда?..
А просто неведомые нам вихри пересеклись именно в этой точке пространства. И когда закончилась гонка, и рассеялся туман, среди чёрной пустоты остались причудливые неземные картинки, сотканные и воздуха, струящихся тканей и затаенного дыхания.
…Так чаще всего и бывает: то, что делается в спешке и ощущается как «не главное», оказывается в результате именно главным, едва ли не самым важным и значительным. Нечто вроде «оговорки по Фрейду»: вскользь проброшенное выдает истину более, чем тщательно сформулированное.
ж ж ж ж ж
Аксиома, подаренная нам Виктюком: театр – Театр – не может быть натужным, а – легким, в любой завершённости своей – все равно слегка небрежным. И удручающе серьёзным не должен быть тоже: он – пиршество, даже когда – трагедия.
Спектакли Виктюка: бесплотность, но – сексапильность. Сексапильность, но – бесплотность. Парадокс, в котором нет ровным счётом ничего парадоксального.
Времена в спектаклях Виктюка: всё происходит сейчас – и никогда.
Пространства в спектаклях Виктюка: всё происходит здесь – и нигде.
Воздух в спектаклях Виктюка: чуть разреженный. Звенящая, до дрожи наэлектризованная тишина.
Паузы в спектаклях Виктюка: в «Священных чудовищах» – как вдох «перед» – словом, моментом истины, счастливой развязкой; в «Даме без камелий» – как фатальное «вместо» – и выдох «после»…
Художники в спектаклях Виктюка: откровенно предпочитают гладкие поверхности – конструкций ли, тканей ли. Никаких шероховатостей и «зацепок». – Так легче ускользнуть?
И они ускользают, эти спектакли, на беду разбудившие в нас лириков и взрастившие эстетов. Ускользают – как шелковый шарф из поникшей руки – от наших беспомощных попыток, сформулировав, удержать. Растворяются – при малейшем соприкосновении с повседневностью. Наша любовь к ним неуклюжа до слёз, как и наша жизнь, – в отличие от той, которая вся – вне: времён года, смены температур и погод.
И каждый спектакль – прощание.
«Они уходят от нас…»
Но мы уже мечены – этими ритмами, этими мелодиями, этими фразами. И по ним узнаем друг друга – всегда.
ж ж ж ж ж
В анналах киевской критики и коллективной памяти, похоже, навсегда останется воспоминание и суждение о хэппи-энде «Священных чудовищ» как о концептуальной «небрежности» Виктюка или блистательном, коварно взлелеянном по ходу спектакля авторском «па» Ады Роговцевой, вырвавшейся, наконец, из стальных режиссерских объятий и жёстких рамок стиля «модерн» на волю, в безбрежный океан родных славянских эмоций.
Зритель от этого тихо «балдел», критику огорчал /хотя, может быть, и радовал – в глубине души/ «идейно-стилевой диссонанс» такого финала, но в «профессиональных кругах» его искусственность констатировалась непременно.
Между тем… Впрочем, зайдем с другого фланга.
Есть расхожая театральная фраза: «В программках надо писать». Это когда что-то непонятно, и, значит, требуются дополнительные пояснения.
Здесь же случай обратный: программку надо читать. Там всё написано. Причём даже на титульном листе.
«Если бы вы могли видеть моими глазами», как говаривал Грин. Не наш Грин, хотя нашего – тихонечко, a part, не отступая, однако, от темы, – поблагодарим. За Романа Виктюка.
Так вот, осталось только увидеть Его глазами.
Что именно? – Всего-навсего то, что «живой портрет одной пьесы» /так у Кокто/ стал «живым портретом одной театральной мистерии».
В «Священных чудовищах» под оболочкой сюжета хоть и нестандартного, но ощутимо бульварного, разыгрывается ни что иное, как Евангелие. Его событийная квинтэссенция, если точнее.
«Прекрасные мифы приходят к нам из глубины веков. Кокто принимал их, омолаживал и обновлял. Трудный, но сладкий удел.» /Роман Виктюк. Из той же программки./
Троица: Бог-Отец – режиссер, Дух Святой – Ангел Эртебиз, наконец, главное действующее лицо – Эстер. Три воплощения единого Демиурга. Каждый из них – демиург, вершитель судьбы и предназначения.
С чего все начинается? – С рождения Ангела. Неуклюжее существо с огромными печальными глазами в первые секунды спектакля на наших глазах наделяется Осанкой. Жестом. Ритмом. Прыжком. Бегом. И становится Духом Театра, покровителем Любви, распорядителем Действа.
Мир обретает Дух. Дух воцаряется над Миром.
Пафосом творения пронизано здесь всё.
Ангел вдыхает жизнь в Эстер. Лёгким пластическим намёком на рождение Адама с фрески Микельанджело «Сотворение мира» в Сикстинской капелле есть этот миг прикосновения через расстояние.
Крещение Театром?
И служение ему. Миссия и вера, приоткрываемые едва-едва, но – недвусмысленно: «Театр – это нечто похожее на монастырь. Мы служим своему Богу, повторяя одни и те же молитвы». Смысл, вложенный в эти слова, – почти религиозный.
И далее происходящее точно соответствует канонической последовательности мистериального цикла.
Эстер знает заранее – всё. О Флоране, о Лиан, о себе. Даже то, что «счастье существует, и оно умеет ждать».
Хоть поначалу и выдох – отчаянный, обреченный: почти бессознательно повторенное трижды: «Откуда она?!», – и внезапный стон: «Нет!..» Хоть и боится, и оттягивает, уводит разговор, вновь и вновь сплетая и расплетая его нити.
Но когда следует подтверждение знанию, то кажется даже слишком спокойным её: «Вот, значит, как выглядит несчастье. Вот какое у него лицо».
Ведь Лиан – суть порождение самой Эстер, ее предчувствие, которое обретает плоть и кровь; ее «отчужденная» и материализованная фантазия. Лиан и Эстер – одно. Одинаковыми будут их рыжие «гривы» – потом, в Шату; одинаковыми же окажутся и их естественные волосы – когда в конце, в момент отчаяния, Лиан стащит свой черный парик, в котором она была во время первой встречи /то, что это парик, станет ясно только теперь/: под «обликом Лиан в отсутствие Эстер» обнаружится… та же Эстер.
«В один прекрасный день господь Бог избавился от всех своих недостатков, создав из них Дьявола и отправив его в ад…» Эстер и тут – демиург: «сотворяет из себя» Лиан – и посылает ее в «царство теней». Здесь оно – Голливуд. /«Ты хочешь стать тенью…» – «Я преуспела. Вы едете в Голливуд»./
Но это будет позже. Пока же Эстер мучима не столько внезапно полученным известием, сколько непременным, априорным противоречием между Творцом и его орудием – в ней самой. Той болью, которая возникает от тяжести креста, принятого на себя – пусть даже и добровольно. Молитва Эстер в финале первого действия – та самая минутная слабость «Да минует меня чаша сия» /какие слова шепчет в эти мгновения Ада Николаевна Роговцева? – пусть остается одной из вечных тайн Театра, без которых он мертв/. Но решение уже принято, и «да» произнесено: «Я поселю Лиан в Шату. …Я многому смогу научиться у Лиан».
И за этим последует путь на Голгофу. Через осуждение, непонимание, ненависть. Через муку.
«Конечно, я страдаю. Иначе все было бы слишком просто.» Страдание – и, наконец, момент распятия. На руках Эртебиза.
Уход = смерть. Эстер умирает – для всех, для сюжета. Но дух её – здесь, и всё теперь – предощущение, и далее – по тому же каноническому тексту: «Ангел… И одежды Его были белы, как снег.» – «Не провожайте меня. Идет снег.» – «Она спешит сквозь метель!» – И из снега возникает Эстер. В ослепительно белом. Является всем по очереди – сначала Лиан, потом Флорану, Шарлотте, и те не видят её в первую секунду. Не могут поверить: «Ты? Ничего не понимаю… Это ты… Эстер?!» И прозревают – на наших глазах.
Это – воскресение. Когда «обняли Его (Ее…) ноги… и поклонились до земли…» – Даже мизансцена – та же… А свет и грим таковы, что лицо Роговцевой-Эстер – неизменная трагическая маска. И только в финальной сцене этой маски уже нет. И мир вокруг изменился: теперь всё в нем – ликование.
Творение продолжается. И оно будет вечным. От соприкосновения – знакомства – с Эстер оживает даже «тростевая кукла» – мадам де Ковиль, мать Шарлотты: в уже неживом вдруг вновь пробуждается живое…
Путь Эстер – Эстер Роговцевой и Виктюка – путь искупления греха нашего сомнения во имя доказательства нелепости нашего неверя. Неверия в Театр. Неверия в Любовь. Вознесение на руки Флорана – финальная точка этого пути.
Хэппи-энд? – Но таким светлым и должно быть, и есть – вот уже без малого два тысячелетия – разрешение сюжета о торжестве высшей справедливости и обретении вечной жизни.
Весь канонический ход событий /перечислим еще раз: рождение, крещение, служение, осознание – и решение, ход на Голгофу, распятие, смерть, известие о воскресении, воскресение, вознесение/ выдержан абсолютно и достаточно явственно сакцентирован визуально.
Но схема эта, одновременно, и достаточно приглушена, намеренно скрыта в ткани спектакля, в многослойной структуре целого.
Первый слой – почти житейский /хоть и весьма экстравагантный/ сюжет о Любви побеждающей. Прекрасная сказка со счастливым концом под французский шансон. Сияющая Эстер на руках Флорана – и, в унисон, радостный выдох зала.
Слой более глубокий – театральный смысл происходящего. Сюжет о силе Театра, торжествующего над самой жизнью. «Одомашненная катастрофа», «спровоцированный приступ». Сыгран театральный спектакль. Эстер – его режиссер и исполнитель, Эртебиз – вдохновитель, все прочие – статисты. Последняя шутка в этом сюжете – игра в «фотографирование» на поклоне: начинает движение Паперный-Флоран, а уж за ним и, естественно, вокруг него, по-новому размещаются дамы, среди которых и Эстер, не претендующая здесь ни на какую «отдельность». Вот уж, воистину: мужчина всегда думает, что решает и распоряжается именно он. На самом же деле всё уже решено и сделано – женщиной. Актрисой. А дирижер – Эртебиз. Театр.
«Имеющие уши» обычно радостно и дружно попадаются на удочку слов Эстер: «Остерегайтесь театра в жизни! Большой артист занимается своим искусством только на сцене, плохой актер всегда играет в жизни». Да, Эстер действительно не играет. Ибо для нее не существует столь естественного и непреложного для других – обычных, «нормальных» Флорана, Лиан, Шарлотты, Люлю – разделения на жизнь и Театр. Театр = Жизнь. Жизнь = Театр. Не «театр» – натужный и дешевый эрзац, где проявления чувств насквозь фальшивы, и все «расклады» играны-переиграны до тошноты, но – Театр. Требующий «полной гибели всерьёз».
Воистину, «величие Театра в том, что его мертвецы встают в финале» – как Эстер. А «жертвы тех, кто делает из жизни театр,» – искусственно, как Лиан – «никогда не поднимутся в конце». Если не будут самим Театром. Ибо Эстер – самоё Театр, прививка которого делает ощущение жизни более острым и небанальным.
От «жить, не зная, что у тебя есть сердце», до «жить с кинжалом из бутафорского реквизита в сердце», таким образом его, сердце, ощущая, – лежит путь оплодотворения и изживания жизни Театром.
Этот второй, «театральный» пласт – для своих. Для которых фатальная нестыковка единственной жизни и любимого Театра суть проблема. Здесь же, на сцене – ее идеальное, утопическое, но – разрешение: театр и должен торжествовать над жизнью – хотя бы в своей собственной вотчине.
Наконец, слой третий: сюжет сакральный. Самый /самый ли?/ глубинный пласт. Евангельский, но окрашенный не только и не столько религиозно. Бог как Высший Смысл и Абсолют здесь един в двух ипостасях: Он есть Театр и Любовь.
Две стены одного тоннеля смыкаются в этой пульсирующей точке.
И Ангел прикладывает палец к губам.
Дальше – тишина.
ж ж ж ж ж
«Священные чудовища» – «Дама без камелий»: целая россыпь лейтмотивов.
Перекликаются слова, струясь от утверждения – через сомнение – к отрицанию: «Когда чудо длится слишком долго, оно перестаёт быть чудом.» – «Когда чудо длится долго, глупый человек перестаёт ему удивляться…» – «А может чудо быть фактом?» – «Именно это – может.» – «А как вы считаете, может чудо быть фактом?» – «Нет».
Плавно перетекают ткани, ритмы, воздух, дыхание…
И Он – Флоран, Рон – будет вновь осыпать красными розами Её – Эстер, Паолу.
Крошечная счастливая клоунада Эстер и Флорана – спародированная в финале «Священных чудовищ» «дорожка» из танго – станет в «Даме без камелий» самим танго – терпким и пряным, мучительным и завораживающим… Этим танго словно вскрываются вены, а дальше просто вытекает кровь – медленно и неотвратимо: из людей, из сюжета, из жизни…
И Рон взлетит на помост – как Эстер на руки Флорана, но рухнет, так и не побывав на вершине…
В костюме Сэма Дювина «проступит» вдруг костюм Флорана…
Маска Пьеро перейдет от Эртебиза к Рону. Этот Лунный Пьеро окажется последней тенью, которая – прощально – мелькнет перед Сэмом. И последним, что будет видеть Паола.
На тему черного шарфа – крохотной блестки из «Священных чудовищ» – в «Даме без камелий» будет сочинена и разыграна целая поэма на языке шарфов: черного, белого, серого…
Сохранится та же строгая черно-белая графика – как доминирующая. И та же геометрия: многоугольники, периметры, диагонали…
Не говоря уже о том, что – даже формально: и там, и там – Франция, дом за городом; и там, и там – некое сакральное пространство, где существует конкретная и едва ли не идентичная географическая оппозиция рая и ада. В «Священных чудовищах» «земля обетованная» – Шотландия /в этом раю живет сын Жанно, именем которого клянутся; рождается его дочь – благой вестью о новом Рождестве замыкается здесь круг/, преисподняя же – Голливуд; в «Даме без камелий» в словах Рона отчетлива та же альтернатива: «Если меня примут в “Ковент Гарден”, мы могли бы встретиться в Лондоне или Нью-Йорке». /Европа – Америка: рай – ад – заметим в скобках./
Может быть, и не стоит искать здесь однозначные смысловые соответствия: всё это – рифмы. Не более – но и не менее.
И два спектакля Романа Виктюка сложатся в некий диптих, где «Священным чудовищам», на первый взгляд, следовало бы идти не до, а после «Дамы без камелий». Ибо цепочка событий в «Даме» – чисто фабульно – обрывается именно на той черте, за которой в «Чудовищах» – счастливая развязка.
Хотя… Помните? – «А после нашей смерти мы попросим Шекспира написать для нас пьесу. И мы сыграем ее вместе…»
«Дама без камелий» словно бы стала той самой пьесой, которую выпало сыграть после «смерти» своей с окончанием спектакля «Священные чудовища» им всем: Эстер-Роговцевой, Флорану-Паперному, Эртебизу-Исаеву, Лиан-Погореловой, Шарлотте-Кадочниковой. Вот только пьеса эта оказалась не такой, какой представлялась им. Здесь Эстер-Паоле ниспослана мука, во сто крат большая, чем та, – ибо сама Смерть неотступно рядом с ней, и обреченность эта – изначальна, фатальна. А Флорану в новом сюжете – за былое пренебрежение любовью, неумение ценить её, превращение в привычку, формальность, – дана не менее фатальная раздвоенность: он как будто разделён здесь на Курта и Сэма. И первому из них послано отсутствие не только и не просто любви, но даже и нелюбви; отсутствие такого понятия и такой эмоции в его «жизненном лексиконе»; второму же – мука утраты любви на наших глазах: он замолкает, обессилевая, проваливаясь в бездну слепого отчаяния.
Все в этом новом сюжете стали другими, но и закономерным продолжением себя прежних: для Шарлотты-Моны всегдашнее «не смертельное», впрочем, отсутствие должной душевной тонкости оборачивается полной бездумностью, бессердечностью, пустотой; Люлю и Лиан – обе! – воплотились в Хэтти: абсолютная, «собачья» преданность – и жестокость, холодность сердца, предрасположенность более к ненависти, чем к любви, – становятся здесь молчаливым страданием, изнуряющей, разрушительной страстью, и эту собственную свою страсть Хэтти, как и Сэм, сжигает в себе безоглядно. И, наконец, возникает роман Эстер-Паолы с Эртебизом, обретшим плоть, уже наделённым словом; ставшим из «балетного» летящего ангела земным «балетным мальчиком»; и роман этот – не светел, а каторжен, трагичен по сути своей.
Единственный новый, без «шлейфа» персонаж в этом раскладе – Фиа, но она здесь отнюдь не самоценна, а есть лишь отраженным и искаженным светом Паолы. Фиа необходима для контраста /фальшь репетируемого ею на помосте исповедального монолога «дамы с камелиями» – и, там же, стон отчаяния, подлинная боль Паолы в ее «Почему же именно я должна выйти замуж за Курта Маста, …почему??!»/. Для оттенения. Прежде всего – оттенения мотива неадекватности восприятия многими /всеми? – или только такими «Снежными королевами», как Мона, как сама Фиа?/ Паолы. Адекватность же восприятия ситуации, людей вообще всегда чревата страданием, мукой. Курт не страдает. И Фиа. И Мона. Не впускают в себя это «лишнее» – истинное – знание о жизни.
Фиа и сейчас не видит в Паоле очевидное – свою любимую Маргариту Готье /«Таких женщин сегодня нет…» – в ответ лишь ироничное «Разве?!» Хэтти/, и – «Она совсем не похожа на Вас,» – не станет Паолой никогда. В Хэтти и даже в Сэме Паолы больше, чем в Фиа. А больше всего – в Антоне Валове, ставшем Роном Вейлом. Он – словно порождение Паолы, такое, каким была в «Священных чудовищах» Лиан, возникавшая из гулкой пустоты ночного театра, уходившая, чтобы стать тенью…
…Эстер распята на кресте из рук Эртебиза, кресте, который есть Театр и Любовь. Паола распята в проёме, на выходе из тоннеля /или входе в него?/.
Воскресшую Эстер не узнают лишь в первую секунду. Паола же не узнаваема вовсе.
Она возникает /«обманка» Виктюка! – театрализованный поклон есть, по сути, истинный финал/, когда все в черном и неподвижны, и взоры устремлены к той точке пространства, в которой – пустота. /Этот «стоп-кадр», кстати, недвусмысленно «репетируется» здесь немного раньше, при последнем – в рамках сюжета – выходе Паолы./ Только коленопреклоненный Рон поднимется – резко, внезапно. Предощутив. Пробежит по кругу, оглядываясь. И вновь застынет в печали. Ему дан лишь краткий миг, чтобы не увидеть, но – догадаться.
И появится Паола, и будет ходить меж людьми – невидима. Сюжет здесь таков, что воскресение, следующее за смертью, остается незамеченным. А это значит, что его – нет.
В «Священных чудовищах» – гармония торжествующей жизни /которая есть Любовь… Театр…/.
В «Даме без камелий» – гармония наступающей Смерти. Хотя сама по себе история – едва ли не та же.
Возникшая последовательность – здесь, сейчас – естественна: нужно было начать с признания бессмертия, чтобы прийти к осознанию существования Смерти.
«Она в присутствии Любви и Смерти», если позволительно так перефразировать.
Смерти, являющейся заранее – предупреждением – в облике Моны с её странным смехом и странными замедленными движениями; в разных перчатках – чёрная, белая, и очках, где белая оправа – и чёрные стёкла… Она словно «метит» Паолу и Рона – приобнимая их. Дает отсрочку, которая – ненадолго.
В присутствии Любви и Смерти.
Хотя: «диалектика Смерти» в «Даме без камелий» гораздо более сложна – как и «диалектика жизни и Театра» в «Священных чудовищах». Здесь, как и там, – три сюжета, и каждый по-своему «пропитан» смертью /не зря в сценографии так четко визуализирован мотив «тоннеля» и отсутствия света в конце него/.
Сюжет бытовой: в нём люди соединяются – ненадолго, и оставляют друг друга – навсегда; в нём Паолу Фиш – немолодую уже, и слишком земную, слишком неземную и слишком женщину – не просто покидают силы – ее покидают именно силы любить; они тают, а вместе с ними тает жизнь, медленно исходит любовью запоздало, на беду пробужденная душа. И бытовой этот сюжет – по сути, о том, что любовь никогда не бывает вовремя, она всегда некстати. И такая временная смещённость – «слишком поздно» – в «Даме без камелий» есть лишь частным проявлением универсального закона. А в данном конкретном случае героиня в финале умирает – или предполагается, что очень скоро умрет. Всё просто: чёрный – красный – белый – и снова чёрный – цвет платьев Паолы. Чёрный – красный – белый – чёрный: пустота – страсть – мука искупления – смерть.
Сюжет метафизический. Дважды – в рамках каждого акта спектакля – реализуется одна и та же схема: жизнь – смерть как вспышка, как удар, как разрыв аорты /если в событийном выражении, то в первом действии это – момент «броска» Паолы и Рона в танго, а во втором – когда «за сценой» у Паолы горлом идет кровь/ – короткая агония – медленное умирание, угасание – смерть как итог. Тот же ход – в динамике световой партитуры: от «пятнистого» или просто жёлто-белого света – через сплошной красный – через холодную голубоватую притемнённость – к полной темноте.
Смысл? – Его Виктюк, по своему обыкновению, сам расшифровывает в программке: «Только в мгновенных сполохах, в еле выносимых озарениях постигают люди огненную, божественную стихию. А потом – мрак, падение, смерть.»
Но такое акцентированно зеркальное построение двух актов, помимо всего прочего, выводит на третий, сакральный уровень сюжета /впрочем, окрашенного в этом случае откровенно «еретически»/. Речь о том, что здесь есть главная и единственно подлинная Смерть, которая приходит лишь единожды. Это: попытка полёта – и падение Рона, когда дрогнули и пошли вниз «кружевные» стены; удар, выводящий вверх и вниз одновременно /очень похоже, кстати, описывается в физике гипотетический момент отказа законов гравитации, перехода в гиперпространство/. Крушение мира. Посреди чёрной вселенской пустоты – лишь помост с обломками античной колоннады, напоминанием об утраченной гармонии. И две маленькие фигурки – Рон и Паола: на краю его и у подножия.
Всё, что происходит потом, происходит уже «после смерти». И Паола может вновь повернуться спиной к нам, и вновь слегка присесть и выпрямиться, однако при этом мир не зальется вдруг светом, как неизменно бывало раньше… Но: «инобытие» становится по отношению к бытию таким же зеркальным, так же, по сути, повторяет его, как второй акт композиционно повторяет первый. За «последним пределом», таким образом, оказывается не долгожданный покой; не ад и не рай, не некое иное качество /на чем религия, надо полагать, настаивает/, а то же, что и здесь, в земном нашем существовании: боль, страдание, неутоленное желание, одиночество, неприкаянность…
Почему это могут сыграть-прожить актёры – еще более или менее понятно: они столько раз «умирали» на сцене, что знакомы со Смертью гораздо ближе простых смертных /правда, со «смертью-понарошку», но это все равно одно из Её лиц/. А Виктюк?! – Надо умереть, чтобы так узнать! Интуиция, прозрение? Знание, посланное свыше?
Смерть в «Даме без камелий» – своеобразная материализация метафоры из «Священных чудовищ»: «Когда закололи королеву Елизавету, она еще долго жила с кинжалом в сердце. А когда его вынули, она умерла.» Только в этом сюжете все обречены на вечную жизнь с кинжалом в сердце – вынуть его невозможно. Некому.
Парадокс, однако, вот в чём: если, по Виктюку, после смерти нас ждет то же самое, что было и до неё, то получается, что Смерти как таковой – раз она ничего не меняет – нет?!
Не потому ли «послевкусие» от спектакля каждый раз столь блаженно – в нём есть горечь, но нет отчаяния…
Значит, всё-таки, – «в отсутствии Смерти»? Впрочем, тогда и «в отсутствии Любви»: похоже, под маской Любви здесь – Страсть. «Ах, если бы я только мог, хотя б отчасти…»
Страсть испепеляющая, как это ни банально. Страсть, которая есть лишь краткий миг поединка – и вечное послесловие, вечное проклятие не-обладания. И нет победителей.
Но, вероятно, причина в том, что в «Даме без камелий» нет не только Любви, но и Театра? Ведь Паола – не Эстер лишь в том /главном!/, что она не демиург. Не Актриса. И нет здесь того Театра, который был спасительным, исцеляющим в «Священных чудовищах».
И тогда, возможно, «Дама без камелий» – завуалированное доказательство «от противного»? Если так, то успех этой мистификации – чрезмерен.
Однако, для просто мистификации здесь всё слишком серьёзно. И слишком определённо.
В «Даме без камелий» нет людей. Мужчины и женщины? Характеры? Образы? – Не то: не находят себе места неутолённые желания, мечутся в тщетных попытках покончить с собой Одиночества. Это – меньше, но, одновременно, – и больше каждого из нас.
В московском – первоначальном – варианте /в театре им.Вахтангова/ играется некое «царство теней», состояние «после жизни». Холод, статика – и недоумение как результат. Там тоже нет людей, но нет и боли.
Здесь же – боль: то, что способно испытывать только живое. Живые: Паола, Рон, Сэм, Хэтти. /Прочие же – не живы: Фиа – ещё, Мона – уже, Курт – вовсе./ Её пытаются скрыть, заглушить, преодолеть, но она угадывается – и прорывается сквозь отстранённость и намеренное бесстрастие – живая боль от того, что песчинки мироздания, которые есть целые Вселенные, значат что-то самое важное друг для друга, а соединиться – не могут. И сгорают, проходя по касательной. Уносимые – не ветром, но – вихрем.
Тут происходит что-то между, а стало быть – и внутри. Роман Виктюк неосторожно приоткрыл двери во вместилище смыслов, написав в программке: «В жёсткую кожуру, в непроницаемый кокон одиночества заключена человеческая душа, и чем крепче эта оболочка, тем мучительней и безнадёжней тоска по воссоединению себе подобных. …Антитеза любви – не ненависть, а смерть. Это её изначальная поверхность».
Конечно, можно было попробовать в этот дверной проём не рухнуть: зайти с другой стороны, заглянуть в окно, увидеть там – кто знает? – иное.
Но – не получилось. Уж слишком всё пересекается и совпадает, хоть мир, где это происходит, заведомо не существует в действительности обыденной.
Однако и в ней – всё то же: в отсутствии….
Смысл едва ли не универсальный вдруг обнаруживается в когда-то – почти неосознанно – написанном: «Конец века. Конец тысячелетия. Катарсис, господа! Танцуют все!»
ж ж ж ж ж
Спектакли /банальность!../ – как люди. Иные ухитряются пережить самоё себя – и живут, и живут; и все вокруг уже мучаются, исподволь переглядываются и вздыхают украдкой, а они всё живут, живут, живут… Иные, появившись на свет легко, уходят так же незаметно.
А иные…
«Когда чудо длится долго, глупый человек перестаёт ему удивляться и начинает считать, что это вполне нормально…»
Воистину, есть спектакли, которые следовало бы канонизировать.
ж ж ж ж ж
Дорога через тёмный двор, по осыпающимся ступеням, по влажным листьям, сквозь осенний туман – тамбур, коридор, полумрак, лестница, снова тамбур, снова коридор… И всё бегом, торопясь – и оттягивая, не опаздывая, но всегда боясь опоздать…
Этой дороги когда-нибудь уже не будет.
Сe soir… In this crazy world… Remember.
Но ещё что-то будет со всеми нами.
– Паола, помоги мне решить одну проблему. …Я банковал трижды, Курт пошел по банку. Должен ли я остановиться?
– Нужно играть, Рон.
Нужно играть. Нужно. Играть. Нужно. Заклинание во имя и против жизни, которая есть ад или пустота.
Нужно играть, Роман Григорьевич. Впрочем, Вы будете и так.
Нужно играть, Ада Николаевна. Люда, Олег, Влад. Лариса, Нина. Евгений Васильевич. Нужно играть.
А после нашей смерти мы попросим Виктюка поставить для вас спектакль.
И мы будем смотреть его.
Там.
1991, ноябрь.
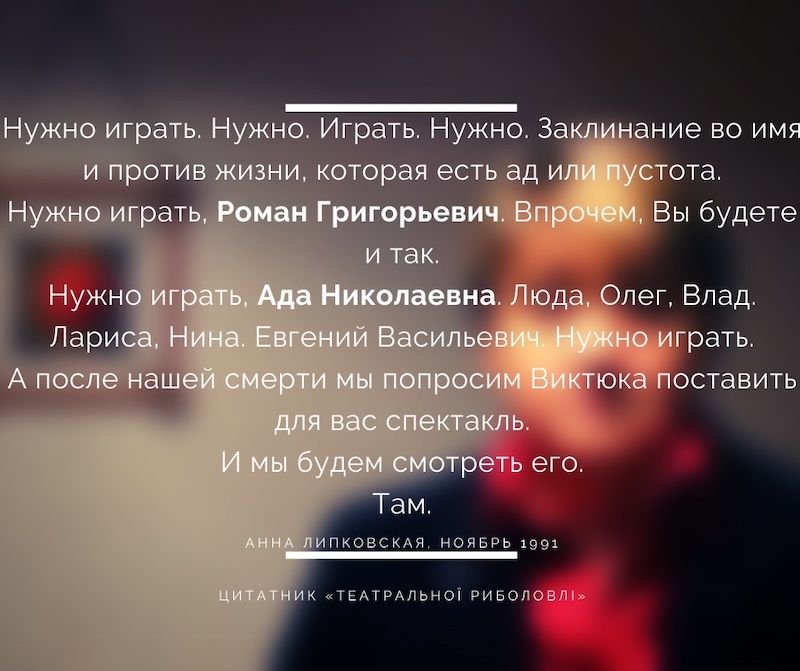
POST SCRIPTUM & POST FACTUM.
На клочках, на обрывках, сокращая слова, имена и названия, но сразу же – почти набело, испытывая благоговейный ужас перед собственным невесть откуда взявшимся знанием, я написала это когда-то за три дня. И дописываю до сих пор.
«Священные чудовища». «Дама без камелий».
Пять лет прошло с той минуты, когда первым шоком оглушило неузнавание с галёрки Ады Николаевны Роговцевой в ломком, манерно-капризном существе с подчеркнуто опущенными уголками губ на выбеленном лице. И – вторым шоком – узнавание в нём же – её, её улыбки, её ямочек на щеках, её сияющих глаз, её летящих рук, вслед за которыми струились полупрозрачные крылья воздушной чёрной материи…
Пять лет… За это время пришла усталость, и вместо того, чтобы радостно взлетать на руки Флорана, её Эстер всё чаще и чаще стала просто тихо опускаться к его ногам; но восторг, который предощущался и к которому так же искусно-неотвратимо всё направлялось, оказывался прежним.
За эти пять лет было и 6 декабря 1988-го, когда на «Священных чудовищах» под потолком в зрительном зале металась, шурша крыльями, залётная летучая мышь, – и Роговцева к монологу Эстер о «бедном старом театре» с обворожительной улыбкой добавила: «В нём живут летучие мыши, во время спектаклей они влетают в зал и мешают актёрам играть…» И 29 ноября 1992-го: тогда Роговцевой преподнесли фантастической длины красную розу – и Ада Николаевна сыграла публике, какая она сама маленькая, и какая роза большая, приставив её к себе наподобие портновского метра. И то, как в последнее время вдруг начала «проявляться» в Паоле – в интонациях, в слегка /бессознательно?/ переиначенных репликах – не существующая уже Эстер…
Пять лет… В них уместилась, кажется, вся жизнь – с любовью и нелюбовью /последней, как водится, больше/, с летней духотой и тихим отчаянием ноябрьских сумерек, с ворохом бестолковых бумаг и теми несколькими страничками, за которые не стыдно… Неизменным оставалось: задержаться в пустеющем зале /«Le soleil…le soleil… le soleil…»/, а потом бежать домой, почти задыхаясь; и в опьянении, когда четко и радостно осознавалось, что никто тебе сейчас больше не нужен и нужен не будет – только «Malgre le statistique… il se comme des enfant…» – в опьянении этом почти изумлённо ловить себя на неожиданно свободном – от бедра – шаге и слегка вычурных движениях: шарф, перчатки, монетка /последовательно: пятак, пятнашка, жетон/ в щель автомата на бывшей «Ленинской», ныне «Театральной»…
И – видит Бог! – эти спектакли /сейчас осталась только «Дама»…/ смотрю не я, а моими глазами – красивая, гордая, элегантно одетая женщина с немного ленивой, в оттяжку походкой и плавным, чуть небрежным жестом женщина, которую они незаметно и неизменно пробуждали во мне, и которой я – по крайней мере, на этом свете – никогда не буду. На них я живу более, чем за их пределами, но кто знает, где протекает истинная наша жизнь, и где мы истинны – в собственной ли ненавистной подчас повседневной оболочке, или же в том сакральном пространстве, что заменяет нам и реальную любовь, и чувство реальности, и рефлексию, которую оно питает? «Кроме этого стекла мне – понимаешь? – ничего не нужно!» – «…Ты нужна мне, чтобы я мог жить…» – «Когда его не станет, я умру, пока он жив, я властен над судьбою…»
…А сегодня «Священных чудовищ» больше нет. Судьба милостива: она отняла самоё прощание. Кто мог знать, что первый после отпуска спектакль – немного «растрёпанный», прошедший хорошо и ровно, но без особенного блеска, – последний? И не потребовалось ни мучительной внутренней настройки, ни тех бесконечно тягостных минут в зрительном зале, когда понимаешь, что надо бы испытывать боль, а её пока еще нет, – и злишься на собственную бесчувственность… Это произошло без нас. Аксиома: человека, на похоронах которого не был, помнишь только живым. Всё к лучшему, наверное…
Но что будет, когда не станет и «Дамы»? А ничего. В том-то всё и дело.
ж ж ж ж ж
…А сейчас вместо Погореловой и Исаева в «Даме» стали играть Сердюк и Лаленков.
Спектакль не стал лучше или хуже. Просто – другим. И остался тем же.
Вместе с Сердюк и Лаленковым сюда пришло другое поколение – актёрское и человеческое. Они – несколько более своих предшественников «вещь в себе», но и более «нетронуты» внутренне – прерогатива юности?..
Оттого ледяная отстранённость и убийственная, за гранью цинизма ирония для новой Хэтти, скорее, – элементы маски, имиджа, а не способ существования и форма взаимоотношений с миром. А бесконечное неистовство, когда всё выплескивается вовне, и раздираема душа, и бьется в судорогах отчаяния тело, у нового Рона становится более скрытым, скованным жёсткой оболочкой сдержанности. И в этом есть своё, не меньшее напряжение: выдержит ли? Налёт некоторой ущербности исчез; теперь всё проще и сложнее одновременно: мальчик становится мужчиной, пройдя по кругу и замкнув этот круг. Танго, бывшее ранее чередой мучительных вспышек противоборства, сегодня завершается тихой умиротворенностью: не обессиленность, а – согласие, гармония, пусть и недолгие.
С Людой Погореловой же, как думалось, уйдет безвозвратно то, что извивалось и билось в глухом футляре роскошных костюмов, и внезапно оборачивалось мягкой, счастливой, немного извиняющейся улыбкой на поклоне в финале: в её Хэтти всегда угадывался не огонь, но – бездна… Оказалось – не ушло. Настя Сердюк будет другой, и уже другая, но нерв, но поворот головы, но улыбка в финале – и та же, и только своя…
Готовых формул в «Даме» никогда не было, но теперь нужно «расшифровывать» всё заново – словно впервые.
Именно это, наверное, и есть – жизнь.
В конце концов, то, что для Погореловой и Исаева было победным и, одновременно, горьким итогом, сведением всех возможных счетов, для Сердюк и Лаленкова – начало. И в их ощущении себя и мира вокруг больше света и меньше той самой убийственной горечи. Боль – да. Но её – сдерживают.
Попытка унять, заглушить боль, избавиться от неё во что бы то ни стало – и полная невозможность сделать это: вот что было здесь раньше. Сейчас же единственным носителем безжалостной, разрушительной страсти и оголенных нервов остается Сэм Заднепровского. А Сердюк и Лаленков – вместе с Роговцевой /помните? – «Вы – это я, только моложе. Смешно, что Вы – это я, забавно, не так ли?» – Произошло своеобразное перераспределение энергии, и Паола, наконец, через поколение, встретилась с таким Роном, – «отрицание отрицания»! – который есть она/ сегодня играют о том, как преодолевать эту адскую боль – при всей обреченности одиночества, даже ценой жизни и вечного блуждания в космическом холоде не-бытия…
Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Влад Заднепровский. – Как благородно держат они на себе спектакль, как строго и бережно ведут по нему этих красивых и умных детей…
А эти девочка и мальчик… – Откуда они знают?! Из каких глубин черпают они и эту всепоглощающую боль, и волю, ее обуздывающую?
Если поначалу ежесекундно, ежемоментно невольно сравнивалось и сопоставлялось, то теперь /почему-то на реплике «Это мой недельный заработок плюс доплата за «Синюю птицу»…»/ вдруг ловишь себя: как будто и не было здесь никакого Исаева, никакой Погореловой. Если что и осталось, то – легенда, миф, фантом. Разменная марьяжная карта, небрежно брошенная на стол рукой беспечного гения, – бита. «Прощай, король…»
ж ж ж ж ж
ХХ век на исходе своём должен был подарить нам Романа Виктюка.
И отнять.
Зачем, отчего? – А просто: в «Священных чудовищах» Виктюк был «евангелистом», «одним из», – выразителем и вершителем Божьего промысла. А в «Даме без камелий» посягнул на самый этот промысел. Дерзнул стать вровень с Творцом – и «отменить» установленное Им разделение бытия на жизнь земную и загробную; смерть, принятую Сыном человеческим – и дарованное Им воскресение.
И тогда кто-то из них двоих – испугался.
Быть может, Бог /боги?/ решил положить предел и без того чрезмерному знанию, посланному им ранее человеку с именем «Роман Виктюк»? Или же человек этот – не краю бездны – инстинктивно сделал один-единственный шаг назад, оказавшийся роковым?
Во всяком случае, Виктюк очутился сейчас в ловушке, которая есть он сам. Ощутимо исчерпал плодотворные ранее приём, ход, круг мыслей. И остался «на выжженной земле». Явственно истощённый внутренне /хотя внешне – напротив/ в столь же обескровленном пространстве. Лишним доказательством того, что можно быть асоциальным, аполитичным, эпатирующим, откровенно презирать любые условности, но от себя не скроешься никогда. Виктюк /универсальная, всеобщая закономерность – или рудимент «совковой» ментальности?/ свободен от всего и всех, но фатально зависим от себя самого, что тоже «весьма печально», как заметил бы знавший в этом толк знаменитый хореограф Сэм Дювин.
Действительно, печально, ибо после «Дамы без камелий» была /был?/ «М.Баттерфляй».
ж ж ж ж ж
И это, как оказалось, даже не красиво /!/. И не рождает никаких иных слов, кроме чисто профессиональной «театрально-критической» лексики в самой «бухгалтерской» её части.
Если воспользоваться ею, то слом, произошедший перед «М.Баттерфляй» и отразившийся в ней /в нём?/, можно констатировать как переход:
– от многомерности смыслов – к хоть и бесконечно близкой многим из нас, но банальной, лобовой, умозрительной идее /в данном случае – той, что реальность нашего вымысла, воплощённая в искусстве, как раз суть реальность подлинная, истинная/;
– от изыска в музыке /в ней – даже известной, знакомой – в спектаклях Виктюка всегда возникали новый, иной смысл, иная эмоциональная окраска; настроение, «дополнительное» к тому, что было, казалось бы, заложено в ней самой/ – к механическому соединению высокой гармонии с пошлой «попсой»;
– от над-сюжета /или, хотя бы, чёткой сориентированности на его создание – в любом материале/, от «многослойности» содержания – к чистой, повествовательной иллюстративности;
– от шарма, причудливости и строгости в цвете и контуре – к навязчивой декоративности китча;
– от магии тягуче-завораживающего пластического рисунка – к простой механистичности;
– от атмосферы – к «без-воздушности» как результату, а не данности среды, данности художественного пространства спектакля /что было в «Даме»/;
– от сильной энергетики – к откровенной скуке, «выключенности» /лишь «Луис» да финальная ария m.Butterfly – отголоском былого восторга…/.
Актёр здесь окончательно превращён не в марионетку даже, а, по выражению А.Игнатуши, в «биоробота»; ему не оставлено ни малейшего пространства /к которому, впрочем, и сами исполнители отнюдь не стремятся/ для оживления – изнутри – заданной конструкции.
В «Лолите», казалось бы, происходит «возвращение на круги своя» – к сложности, изощрённости, невесомости и неуловимости, но, как известно, «дважды войти в одну и ту же воду…» – увы.
ж ж ж ж ж
После «Лолиты» – вдруг – безумное желание сейчас, сию же секунду броситься к Роговцевой: «Как там плохо без Вас…» Хотя, конечно, дело не только в этом.
То, что надломилось в «Даме без камелий» сладко и мучительно, в «Лолите» обернулось разбитым сосудом, где каждый хрустальный осколок сам по себе прекрасен, но смысл утерян навсегда…
Там нет того дыхания, той пульсирующей энергии, которыми поражают, к примеру, «Служанки» – даже во второй, не лучшей редакции, даже с весьма посредственными актёрами, даже в видеоварианте… – Есть лишь пугающая завершённость.
Если бы Кай все же успел – смог – выложить по настоянию Снежной королевы из сверкающих льдинок слово «ВЕЧНОСТЬ», то это и была бы «Лолита» Виктюка. Совершенство, но совершенство мёртвое, ибо жизнь всегда есть некое смещение, отклонение от нормы и меры. Поставить заведомо мёртвый спектакль – намеренно? задача ли? Или просто – «боги смеются», как посмеялись они в «М.Баттерфляй», в «Соборянах», в том спектакле со странным и длинным названием в театре Моссовета, где под разными, экзотическими ли, аскетичными ли обложками – всё то же: «холодно, холодно, холодно… пусто, пусто, пусто…» Чистые конструкции, не одухотворенные ничем.
Даже фактуры там – мертвы. Раньше – в «Чудовищах», в «Служанках», в «Даме» – мы готовы были принять – и принимали – любые условия игры, соглашаясь с тем, что картон – это мрамор колонн, а крашеное «серебрянкой» дерево – узоры кованого металла. На деле же всё это, по-домашнему слегка покосившееся, чуть облезшее, – так или иначе оставалось картоном и деревом, мягкими, тёплыми. «Лёд» тогда был живым; он мог растаять – и таял.
В «М.Баттерфляй» и, особенно, в «Лолите» такое показалось бы невозможным, немыслимым. Там правит бал неживая, искусственная материя: стекло, пластик, алюминий, полиэтилен. – Даже слова эти в ткани других слов, относящихся к живому и живым, – инородны.
Только «Служанки» оставляют ощущение явственного – пускай всего лишь былого – присутствия Бога, божественного дыхания.
Блёстки, рассыпанные на руинах. Эхо вечной истины, сохраняемой и по сей день в «Даме без камелий»: искусство выше жизни и смерти, это – единственная реальность, где даже жизнь и смерть суть категории не более, чем эстетические. Единственное пространство, где они прекрасны – хоть и мучительны.
Смерть и становится самым большим откровением в «Служанках». – Ведь именно это ей кричит: «Нет!!!!!», – разрываясь в истерике, распинаемая /-ый?/ на балетном станке Клер – и «Je suis malade» Далиды, и медленно, по параллельным прямым, как завороженные, движутся через зал Мадам и Месье, чтобы, свернув, всё же встретиться на полдороге, и дальше идти вместе, не глядя друг на друга, – вперёд, неотвратимо, в никуда…
Но остальное оборачивается одним сплошным дивертисментом – без развития, без цели…
ж ж ж ж ж
После таких «Служанок», после «М.Баттерфляй» и «Лолиты» стало очевидным: Роговцева, в отличие от Погореловой и Исаева, – не актриса Виктюка, как это ни парадоксально. Актриса его Театра – может быть. Того театра, каким он есть /был…/, а не каким он, возможно, видится самому Виктюку. Она – слишком женщина, и оттого именно там, где её природа оплодотворяла его конструкцию (или наоборот?), возникала божественная искра.
Бог оказывался мудрее, и оказался, в конце концов; ибо ему надоело /или просто уже кажется бесполезным?/ «посылать» Виктюку живых актеров. «Неправильных», со своей собственной болью и теплом сердца – как некогда Маковецкий, как Терехова, Ахеджакова, Карельских, Заднепровский, как Роговцева… Спектакли Виктюка от их присутствия становились более «виктюковскими»? – Или менее? Раскрывали то, что должно, – или придавали смысл не предусмотренный, «излишний»?
Во всяком случае, именно то, что Роговцева – не актриса Виктюка, и родило его Театр с ней – первой актрисой этого Театра – здесь. А в своем театре у Виктюка теперь – подобранные им самим актёры, которые, очевидно, – послушны. Его актёры – есть, Театр же его – увы…
Вечное противоборство, диалектика живой плоти и гениальной конструкции – вот что рождало силовое поле, магию этого театра. Обладавшего, к тому же, комплексом весьма сложных, нестандартных идей – даже в чрезмерно «технологичных» «Служанках», где смысл /речь о первом варианте/ был в самом театральном «маскараде», смене сущности – и высвобождении; намеренном, почти мазохистском «сковывании» себя – и радостном выходе из «кокона». А в «М.Баттерфляй» все стало до неправдоподобия лобовым /возникало даже ощущение, что смотришь спектакль не Виктюка, а кого-то из старательных и бездумных его эпигонов/. В «Лолите» же Виктюк, похоже, заблудился в лабиринтах собственного замысла и чувствований, и впервые на моей памяти то, что сам он написал в программке, настолько фатально разошлось со спектаклем…
Виктюк словно бы провалился в область отвлеченных идей из мира, где, несмотря ни на что, существовала некая человеческая конкретика, пусть и находившая внешнее выражение в весьма причудливых формах, в вариантах многократно опосредованных. Всё всегда в спектаклях Виктюка имело начало в живой, пульсирующей точке – в любви Эстер, обреченности – и нежелании с ней смириться Паолы, страдании Сэма, двусмысленности положения Шостаковича в «Уроках мастера», абсурде вокруг героя спектакля «Милый, сколько яду положить тебе в кофе?», – в достаточно простых, понятных, близких вещах. Теперь же произошла замена мотива – на бесконечно далёкий от конкретного человека, сидящего в зрительном зале. От меня, если хотите. И боюсь, что не только от меня.
– Что произошло?..
– Ничего. Просто – любовь ушла. Так бывает. Так случается каждый день.
«Дама без камелий»
Это можно себе представить – пускай и лишь гипотетически. Не прочувствовать, но – понять: если долго ощущать себя изгоем, то всё более нестерпимым будет желание стать не просто «своим» среди «таких, как все», но – пастырем. Зубами выгрызть, выбороть право властвовать, презирать, не считаться ни с кем и ни с чем. Достичь всего. На деле же – потерять при этом главное: сердце, наполненное щемящей нежностью и болью. Сымитировать можно всё, но – не любовь, особенно если знаешь разницу.
Когда боги смеются, они, наверное, отнимают именно Сердце. Остаётся разум, остаётся страсть, но страсть эта разрушительна, лишена живительного огня. Опалённость и испепелённость. Метеорит, вспыхивающий на границе космического холода и земного тепла, познать которое ему уже не суждено…
Остаётся все тот же постоянный круговорот «бильярдных шариков» /формула И.Колесниковой/, их столкновений-отталкиваний, и – проклятьем – эти вечные стулья, зажившие уже, кажется, своей, отдельной жизнью, неподвластной ничьей воле, даже воле собственного создателя… И женщины – любимые, но изначально не-вожделеемые; вздрагивающие в тысячный раз, как в первый, от охапок искусственных цветов, которыми их вновь и вновь будут забрасывать…
Похоже, чудес в этом сюжете больше не будет: все счеты с жизнью и Смертью, кажется, уже сведены.
Ангел Эртебиз, рожденный в начале – и тихо, незаметно исчезнувший в финале «Священных чудовищ»; Лунный Пьеро сумерек Его души, незримо живший в масках «Квартиры Коломбины», в каждом движении Мадам, в суетливой изломанности Шостаковича; белой тенью мелькнувший в «Даме без камелий», – теперь покинул Того, кто ненадолго оживил это облачко «льда и мяты, огня и эфира», выпорхнувшее из-под пера Жана Кокто. И уже никогда не посетит он эту «лавку старьёвщика»… – «Слишком поздно. – Я знала, что так будет… Я сплету ему венок из жёлтых и красных цветов, яркий, как полуденное солнце… Что сделал ты?..»
– Я могла быть неправа. Быть может, я не знаю жизнь так, как, мне кажется, я её знаю…
– Ты права, Хэтти. И ты знаешь жизнь. Как было бы хорошо, если бы ты не знала, но ты знаешь…
«Дама без камелий»
Это – прощание с собой. Его – и наше. Бог спас – а лучше бы не спасал. Дальше, впереди – унылость, бренность, иллюзии, самоуговоры… Но – не магия.
Прощайте, Роман Григорьевич. Другие сегодня объясняются Вам в любви – привселюдно, а я – прощаюсь, чтобы на следующей странице – остановиться.
Прощайте. Это прощание будет долгим. Очень долгим. Но оно – данность, над которой не властен никто.
Прощайте. Простите мне мое посягательство на Вашу и только Вашу истину /судить гения – мне ли? кто дал право?/ – а я постараюсь простить Вам то, что Вы сделали с моей жизнью, не спросив на то разрешения.
Сейчас же, в итоге /а это – итог/ – напоминаешь себе ребёнка, жившего сладостной мечтой о замечательной игрушке из магазинной витрины; ребёнка, приходившего любоваться ею, говорившего и думавшего о ней чаще, чем о чем бы то ни было ином в этом мире, – и узнавшего вдруг, что игрушку эту не только убрали с витрины, но и вовсе теперь перестали делать… Детская трагедия. Самая сильная в мире.
И только воспоминание о тёрпком привкусе той неземной отравы – на губах. И ощущаешь себя самоё человеком, на глазах которого развалился Парфенон.
И хочется зарыться всем телом в старый занавес, и плакать так, как никогда не умелось…
Je suis malade.
ж ж ж ж ж
«Священные чудовища». «Дама без камелий».
«Вишнёвый сад» нашего поколения.
И это останется в нас – бутафорским кинжалом, кинжалом из театрального реквизита, самым худшим из всех.
Мы стали ножнами этого кинжала.
Вот, собственно, и всё.
1993, март-май
Мои рефлексии, не допущенные в окончательный текст.
«Священные чудовища» – как молитва, очищение. Короля Клавдия не было смысла убивать во время молитвы – иначе он попал бы в рай. Если же суждено кирпичу упасть на мою голову, то пусть бы это произошло по дороге домой после «Священных чудовищ» /запись 04.12.89/. Именно в момент счастья /правда, момент этот недолгий: от соприкосновения с реалиями жизни, даже самыми безобидными, хрусталь послевкусия рассыпается в крошки/. «Теперь можно и умереть», как в таких случаях говорят. Чтобы смерть стала высшей наградой – на взлёте, а не долгожданной получкой, до которой еле дотягиваешь…
«Священные чудовища». «Дама без камелий». – В них всегда можно было спрятаться, зарыться, уткнуться лицом, как в ту самую рубашку на той самой груди, которая… Которой нет – уже, ещё, больше? Почувствовать себя тем, кем ты не есть – а может быть, как раз и есть? – на самом деле…
А теперь каждый из нас остаётся с жизнью лицом к лицу. Один на один. С той самой жизнью, которая сделала нас стариками, едва отмотав четверть века. У нынешних девочек-мальчиков – отболит, ибо всё ещё впереди. А что остаётся нам?
Иногда «воспоминанья слишком давят плечи», и бесконечные разговоры об этом причиняют почти физическую боль. Даже странно настолько скорбеть не о человеке – о спектакле… «Так любить театр – неприлично», – сказал бы персонаж Дьяченко. И дай Бог тем, кто этого не знает, не узнать никогда. Хотя мне их немного жаль.
– Это дурацкая игра, но я буду в неё играть, …если Вы хотите.
– Он прав: игра действительно дурацкая.
– Может статься, в один прекрасный день он поймет, что всё это не так уж глупо. Или что это уже не совсем игра…
«Дама без камелий»
Я – это Хэтти с её «любить, любить, любить…» Погорелова была здесь почти демоном-искусителем, почти властелином, почти «серым кардиналом». – Благоговейный восторг перед той бездной, которая не открывалась, но угадывалась… Сердюк ближе, «знакомее», и оттого идентификация кажется не столь недостижимой, а зависть не так болезненна…
Хотя… «Заложенные» в «Даме без камелий» априорное человеческое одиночество и утончённые эстетические переживания – не то, чтобы «выше любви», как, помнится, говаривал /правда, имея в виду лишь себя/ чеховский персонаж, но кажутся категориями суть высшего порядка, не сводимыми к чисто чувственным проявлениям.
РЕЗЮМЕ:
Десять лет.
«Бульвар Сан Сет»…
Что может быть более изнуряющим, чем участь Кассандры?! Проклятье…
– Не думай об этом. Его больше нет в твоей жизни.
– Я думаю не о нём – о себе. Что сделала я со своей жизнью?!
«Дама без камелий»
1998 , февраль




